ПАРТИЯ
...Особенно рельефно сила пешки проявляется в связи с возможностями ее превращения.
М. Юдович. "Занимательные шахматы"
Весна ввалилась как-то совершенно неожиданно и беспричинно. Ее никто не ждал, да, судя по всему, никто и не замечал. Мало того, у него создалось такое впечатление, что она вообще никому не нужна. Каждый по-своему одинаковый индивидуум направлял свои стопы в очередное, ему одному известное общественное место. Смотрели все, почему-то, только на мыски своих ботинок, как будто чувствовали, что если поднимут голову, то ноги сразу перестанут идти по привычной хорошо вытоптанной трассе и попытаются улизнуть куда-нибудь в сторонку, где пусто, грязно, неуютно, но зато никто никогда не был.
Он почувствовал, что она здесь, еще не выйдя из дому. Он впитал ее сразу, целиком, до предела распахнутыми легкими вместе с первым глотком живого свежего воздуха. Этот глоток был на удивление похож на глоток холодного пива в мае, когда пьешь его на ходу, из горла, и вместе с тобой его пьют такие же, как ты, очарованные и ошизевшие братки, идущие в ту же сторону, что и ты, даже не подозревая, где она, эта сторона.
И тут же внутри его взорвалась, рассыпалась колючими искрами беспредельная, бешеная, сбивающая с ног радость. Он шел, и в голову ему вместе с потоками нервного огненного счастья заносило какие-то слова, обрывки, мотивы. Он пел и смеялся, хотя шел совершенно один. Он шел туда, где его ждали.
* * *
Кто-то, войдя в комнату, зажег свет. Он взглянул на часы и понял, что сидит здесь в темноте уже третий час. Вокруг постоянно ходили какие-то смутные тени тех, кому он был так рад, с кем можно было говорить ни о чем или молчать обо всем сразу, с кем он столько раз пил портвейн и водку и потом мучительно трезвел. И он помнил, насколько становилось лучше, когда кто-нибудь из них подходил попрощаться и безо всякой грязи и лжи спрашивал: ''Доедешь? А то оставайся. Места всем хватит.''
И он отказывался или соглашался, но уже было гораздо лучше, и не так нудно нескончаемо болело.
А сейчас не было даже боли. Никто не заметил, как он пришел, как взял гитару, как пел, тихонько перебирая струны, как орал, сбивая в кровь пальцы о натянутую непослушную медь. Он пил один, пил много, но ощущал только металлический привкус на губах, привкус чего-то заржавевшего и отвалившегося.
Вдруг он вспомнил утро, и откуда-то снизу, от пяток поползла к горлу нехорошая смертельно-ледяная волна осознания. От прежнего пожара еще оставалось несколько угольков там и сям, и она, размеренно заливая их по одному, с шипением оставляла ощущение побитости и бесконечности.
На мгновение ему показалось, что эта весна была последней.
Он резко вскочил и выбежал за дверь. На лестнице кто-то курил, и он промчался мимо них, даже не разобрав, кто это. Спиной он понимал, что никто не увидел, не захотел заметить этого бегства от себя, от них, от привычного уже отдыха. Все осталось точно так же, только уже без него. Он не осуждал их. Он понял, что просто прошел сквозь это, наследил, наблевал, но все уже убрано и забыто. Ему казалось, что потом все это будет снова, но это было как мираж, и ему, почему-то, не захотелось бежать к нему со всех ног.
* * *
Войдя в квартиру, он уселся за шахматную доску и заново оценил сложившееся положение. На правом фланге обстановка что-то слишком накалилась. Половина фигур сгрудилась там, не давая друг другу пройти и угрожая пожрать все, до чего сможет дотянуться. Он двинул вперед пешку, и тут же все вокруг пришло в движение, аннигилируясь и давая простор новым возможностям. За пару минут число фигур на доске резко сократилось, и теперь можно было уже думать, как быть дальше. Но думать не хотелось.
* * *
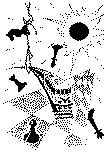 Жара этим летом стояла неимоверная. Он плелся, задыхаясь густым потным месивом, которое наполнило пространство, вытеснив воздух. Ему казалось, что солнце, одурев от жары, не удержалось и рухнуло вниз, в последней отчаянной попытке зацепившись ему за плечи горячими жилистыми руками. Теперь оно висело сзади, как горб, и он понимал, что придется переть его на себе до самого конца пути.
Жара этим летом стояла неимоверная. Он плелся, задыхаясь густым потным месивом, которое наполнило пространство, вытеснив воздух. Ему казалось, что солнце, одурев от жары, не удержалось и рухнуло вниз, в последней отчаянной попытке зацепившись ему за плечи горячими жилистыми руками. Теперь оно висело сзади, как горб, и он понимал, что придется переть его на себе до самого конца пути.
Но зато там будет лучше. Там будет прохлада, там ему рады всегда. И он спасал себя мыслью о том, что скоро все кончится, что скоро брат пожмет ему руку и предложит холодного пивка, оставшегося после вчерашнего сейшна. И можно будет растянуться на полу на самом сквозняке и перестать думать, перестать быть, уйти в ленивую медитацию и не вспоминать о возвращении.
Подъезд. Наконец-то, тень. Прохладная вонючая лестница. Он уже собирался позвонить и рухнуть через порог, как только откроется дверь, как вдруг заметил, что она приоткрыта. Тем лучше. Он тихонько прокрался в прихожую. Комната. Пусто. Другая. Пусто. Проходя на кухню, он вдруг услышал неясное бормотание, доносящееся из туалета. Видать, прибило парня. Да и немудрено в такую жару.
"Хой!" — крикнул он, — "Слезай с очка, я травы достал!"
Бормотание не прекратилось и даже не изменило тона. Он приник ухом к двери.
"Я один. Я один. Я один..." — произносилось это безо всякого выражения и интонаций.
"Ты что, колес наглотался? Не в падлу одному?" — потихоньку стервенея, заорал он. Ничего не изменилось. Он толкнул дверь. Она на удивление легко поддалась...
Он так и не понял, на чем держалась та веревка, так плотно обнимавшая шею, что та посинела в ее объятиях. Только врезался в память старый еле дышащий магнитофон в очке унитаза, из последних сил звавший:
"Я один. Я один..."
Дурак!
* * *
Дома он снова взглянул на доску. Нет, ничего изменить было нельзя. Его офицер безвозвратно должен был быть съеден. Он сделал этот неизбежный ход и понял, что фигур на доске почти не осталось.
* * *
Белесое прозрачное небо манило к себе деревья. Они помахивали ветками, протягивая их вверх, и листья, трепеща от нетерпения, срывались с них и пытались взлететь, стать частью светила, которое, судя по всему, намеревалось остыть и закатиться. Но они все равно медленно опускались, покрывая землю разноцветными разводами и становясь частью этой величественно-грустной декорации. Он поддевал их ногами, пытаясь помочь, но падение так потрясло их, что они уже и не помышляли о полете, а лишь пытались прижаться поплотнее друг к другу, чтобы не так холодно и скучно было зимой. И ему вдруг тоже захотелось, чтобы кто-нибудь согрел его, успокоил, защитил от неизбывного одиночества, которое нарушали лишь лысеющие деревья.
Он вспомнил свой последний разговор с ней. Обычные улыбки, смех, полушутливое прощание навсегда и изматывающую тоску после. Он знал, что это больше не повторится.
Небо как-то быстро и повсеместно посерело, пошел дождь. Листья уже не пытались летать, а только срывались, как перезревшие яблоки, и гулко плюхались в размытую глину. В висках стучало, за шиворот текла вода. Было как-то гадко и мерзостно, потому что виноват во всем был он один.
И еще было одиноко.
Очень.
Совсем.
* * *
Он победно снял с доски королеву и вдруг замер. На клетчатом черно-белом поле боя стояла одинокая пешка. Остальные фигуры были уже съедены, уничтожены, отданы, убраны и валялись теперь вокруг доски.
Он не знал, что это. Триумфальное шествие или полнейший разгром? Это была пиррова победа. Да и вообще, победа ли? Он не мог понять, что случилось, почему эта так гладко, интересно развивавшаяся многодневная партия так неожиданно и печально закончилась.
А впрочем...
* * *
Жесткая веревка неприятно щекотала шею. Окна покрылись инеем с таким разнообразием и гармонией, что больно было смотреть. Он знал, что там, за стеклом. Он все это уже видел и видел достаточно. Ему даже не хотелось об этом думать.
Он проверил, легко ли упадет табуретка из-под ног, не сорвется ли тройной узел с крюка, на котором недавно еще висел холодный, мертвый электрический свет. Теперь он, наконец-то, похоронил его. Скоро то же самое случится и с ним.
Вдруг он увидел в углу комнаты доску. Шахматную доску с одинокой пешкой, стоящей на седьмой горизонтали. Что-то смутно замаячило у него в мозгу. Это же... ''Пешка, дошедшая до конца поля, может стать любой фигурой.'' Любой! Об этом еще Кэрролл писал.
Идиот!..
Он чуть не свалился с табуретки, но удержался и ринулся к недоигранной, как оказалось, партии. Не думая уже ни о чем, он сделал последний ход.
* * *
В тамбуре было холодно. Окна были ужасно грязные, и разглядеть сквозь них, где проезжает его поезд, он не мог. Да ему было уже все равно. Он даже не знал, куда он едет.
Но он уже был готов к приходу весны.
...Он еще не решил, на что поменять последнюю пешку...