С Н Ы
...Если страх чрезмерно силен, то ... он парализует тогда любое действие, в том числе и бегство.
З. Фрейд. "Сновидения"
ПРОЛОГ
Была боль. Она вливалась в его мозг через глаза, через уши, ноздри, наполняла голову так, что казалось, будто она переливается под кожей на лбу, на висках, на затылке, приводя волосы в какое-то несуразное, хаотическое движение.
Она стекала ниже по каждому сосуду, каждой жилке, растворяя их и разливаясь внутри тела, просачиваясь через поры вместе с холодным потом и постепенно заполняя пространство вокруг него. Он еще мог двигаться в нем, с трудом преодолевая сопротивление этой бесплотной густой массы, хотя каждый порыв, каждое движение, каждая мысль вызывали непреодолимые упругие дребезжащие волны, которые, все разрастаясь, наполняли его тело мелкой дрожью , от которой стучали зубы, непрерывно порождая все новые действия, новые движения.
Он жил внутри этой боли неимоверно долго. Ему уже казалось, что слово "долго" неприменимо к ней, потому что она была вечно, она была всегда. Она была вне времени, вне пространства, она была вне. Она являла собой совершенно отдельный, обособленный мир, в котором переставали существовать какие-либо понятия, доступные его разуму, которые он когда-либо использовал или мог себе представить.
Она жила своей бесконечно сложной и в то же время совершенно примитивной жизнью, как муравейник, в котором можно наблюдать за одним маленьким муравьем, но невозможно уследить за всеми сразу.
Она жила, и ему казалось, что она действительно живое существо, хотя он понимал, что не может существовать до такой степени хладнокровно-жестокой жизни. Он понимал, и эта мысль приносила ему еще большую боль.
Усилием воли, от которого он чуть не свалился с ног, он напряг зрение, и его взгляд сумел-таки разорвать мутную пелену этого замкнутого пространства. Брешь почти сразу затянулась еще более плотной завесой, но он успел увидеть единственный путь к спасению. У стены стояла кровать, до которой было по обычным меркам не более трех шагов. И он пошел. На негнущихся ногах, которых он совсем не ощущал, преодолевая усиливающийся натиск пустотелых, но мощных бурунов, он донес себя до цели за пару секунд, которые в том, другом мире казались целой жизнью.
Он знал, что победить боль не в силах, так как он сам был частицей ее, принадлежал ей целиком и полностью. Боль была в нем, и боль была им. Ему оставалось только сбежать. Сбежать в сон, в забытье, в смерть. Оставаться здесь он больше не мог. И он закрыл глаза...
* * *
День был довольно летний и солнечный. Обычный солнечный летний день, веселый и строго запланированный календарем. Ничто ничего не предвещало. Был лесок, в леске была опушка, на опушке был небольшой пляжик, который постепенно переходил в озеро. Озером был он.
В нем купалось множество людей. Молодые матери не разрешали детям заходить в воду глубже, чем по пояс. Какие-то юнцы соревновались, кто быстрей доплывет до противоположного берега, и там устраивали веселые потасовки, брызгаясь и разбивая тишину леса дикими воплями. Молодые парочки целовались за кустами возле берега или не спеша проплывали, раздвигая резвящуюся детвору.
Лишь какой-то мальчик лет десяти стоял совсем один по грудь в воде и смотрел не по-детски серьезными глазами на всю окружающую его суету. Все то время, что он наблюдал за этим мальчуганом, тот стоял совершенно неподвижно, и было в нем что-то такое знакомое, от чего вода внизу озера становилась гораздо холоднее, чем на освещенной солнцем поверхности.
Вдруг какая-то тень пробежала по небу, какой-то недобрый ледяной ветерок потянулся со всех сторон к озеру, и он почувствовал приближение. Если бы он не состоял сейчас целиком из воды, он покрылся бы холодным потом, ибо уже давно подсознательно ждал, что она найдет его. Он знал, что его ждет, и попытался уйти, сбежать до того, как начнется это адское, непереносимое представление. Но не так-то просто сбежать озеру. Он взволновался. Сначала мелкая рябь, а следом и настоящие волны смяли его глянцевое лицо. Матери подхватили своих детей и старались скорее унести их на берег, но он, не замечая ничего, сбивал их с ног пенными бурунами в надежде сдвинуться с места, просочиться в песок, испариться и улететь с облаками подальше от этого гиблого места, где боль снова нашла его и вот-вот примет в свои объятия.
И только необычный мальчуган, до которого никому не было дела , все еще стоял, захлестываемый волнами, но не обращая на них никакого внимания. Он, как будто, не понимал, зачем все эти люди носятся вокруг него, что-то крича и захлебываясь брызгами, почему плачут дети подмышками у матерей, почему у всех выражение такого страха на лицах. Казалось, никто, кроме него, не понимает, что происходит здесь.
Но тут из леса показалась боль. Она приближалась со всех сторон сразу, не оставляя никаких путей для отступления, стирая на своем пути все и оставляя лишь серую липкую бесконечную пустыню небытия.
Отчаяние придало ему силы, и, сделав последний рывок, он приподнял себя у берегов и стал закручиваться по направлению к центру огромными цунами, сводя на нет последние попытки людишек спастись и не обращая на них внимания.
Волны сомкнулись в верхней точке своего подъема и, удерживаемые его отчаянием и страхом, не распались, не отхлынули, а образовали некоторое подобие шара. Шар этот начал густеть тем быстрее, чем ближе ощущалось приближение боли, погребая в себе всех, кому так и не удалось выбраться на берег. Он все густел и густел, пока не стал абсолютно твердой черепной коробкой, которая тут же покрылась кожей и волосами.
 Он снова был человеком. Голова его лежала на мокром песке, а тело уходило вниз, в землю, словно корень какого-то несуразного растения. Сбежать он все равно не мог, но боль осталась снаружи и, вроде бы, не должна была пробиться сквозь каменные кости черепа.
Он снова был человеком. Голова его лежала на мокром песке, а тело уходило вниз, в землю, словно корень какого-то несуразного растения. Сбежать он все равно не мог, но боль осталась снаружи и, вроде бы, не должна была пробиться сквозь каменные кости черепа.
Но вдруг он почувствовал в мозгу какое-то шевеление. Он заглянул внутрь и увидел, что странный ребенок, удививший его в озере, вопреки всему жив. Он был где-то в самом центре мозга, и от этого создавалось пренеприятнейшее ощущение открытости и незащищенности. Еще не успев успокоиться, он опять почувствовал страх.
Но это было еще не все. Впервые за все время мальчишка улыбался. Он улыбался по-детски счастливой улыбкой, но глаза его, по-прежнему взрослые, сияли злорадством и ехидной насмешкой. И тут в руке его возник огромный охотничий нож, которым он полоснул наотмашь, не глядя, вспарывая нервы, ровно, как бритвой, надрезая кость и принимая на себя потоки темной венозной крови.
Постепенно кровь заполнила весь череп изнутри и стала просачиваться наружу.
И вместе с кровью в него вылилась боль...
* * *
Она засмеялась.
— Да хватит прикалываться! В кои-то веки решил поговорить серьезно.
— А-а. Прости, пожалуйста. Я очень внимательно тебя слушаю.
— Да уж, постарайся. Знаешь, мне кажется, в последнее время что-то изменилось, что-то стало не так.
— Да-а? В чем же именно?
— По-моему, ты стала совсем другой.
— Да нет, я просто поняла, в чем моя ошибка.
— И в чем же?
— Понимаешь, я просто попыталась посмотреть на все со стороны. Раньше мне казалось, что ты действительно любишь меня, что все хорошо. Ты что-то говорил, я верила. А сейчас я понимаю, что все именно не так.
— Но все, что я говорил — правда. Ты можешь смеяться, но я действительно люблю тебя.
— Может быть, ты и в правду так думаешь. Но ошибаешься. Давай, не будем больше об этом говорить.
— Но почему? Ты что, не веришь мне?
— Ты не понял меня.
— Я чем-то тебя обидел? Извини, я не знал. Слушай, попробуй еще раз. Последний раз прости меня. Пожалуйста!
— Я же говорю, ты не понимаешь. Мне не на что обижаться. Ты просто не знаешь того, о чем говоришь. Когда ты увидишь это сам, ты поймешь, что я права.
— Ну дай мне последний шанс!
— У тебя уже был последний шанс.
— Но я же не знал об этом.
— Значит, все было честно. Слушай, почему нельзя быть просто друзьями? Почему все так сложно?
— Как хочешь! — огрызнулся он. Резко повернувшись, он дернул дверь и захлопнул ее за собой так, что задрожали стены. И только выйдя из комнаты, он понял, что вокруг него — боль. Другого пути к спасению не было, и он рванулся обратно.
Она стояла на том же месте, где он оставил ее. Зажмурив глаза, он кинулся к ней, обнял ее, прижавшись к ней всем телом. При этом она оказалась между ним и дверью.
— Прости меня! Прости! Я дурак! Я чушь какую-то творил! Прости меня! — лепетал он, чувствуя, что дверь дрожит под чудовищным напором снаружи, под напором силы, перед которой ничто не может устоять. Он и сам трясся вместе с дверью от страха и от неизбежности того, что должно было сейчас произойти.
Вдруг дрожь прекратилась. Казалось, что боль сдала свои позиции, когда была уже за шаг до победы.
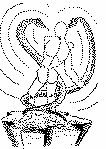 Он осторожно приоткрыл один глаз. Рядом с ним никого не было. Он похолодел. Ведь он только что обнимал ее, и она отвечала на его объятия. Он вдруг почувствовал, что ее руки до сих пор обнимают его. Осторожно опустив глаза, он увидел двух склизких блестящих змей, которые, сплетаясь и расплетаясь, совершали какой-то ритуальный танец вокруг его тела, закрыв глаза и как бы забывшись в нирване.
Он осторожно приоткрыл один глаз. Рядом с ним никого не было. Он похолодел. Ведь он только что обнимал ее, и она отвечала на его объятия. Он вдруг почувствовал, что ее руки до сих пор обнимают его. Осторожно опустив глаза, он увидел двух склизких блестящих змей, которые, сплетаясь и расплетаясь, совершали какой-то ритуальный танец вокруг его тела, закрыв глаза и как бы забывшись в нирване.
Но тут глаза их распахнулись, и они впились в него длинными желтыми зубами, с которых капало что-то вязкое и вонючее. Они жрали его тело, совершенно не заботясь о том, что вместе с телом рвут в клочья и душу, пока еще неразрывно связанную с этим куском мяса.
И естественно, боль не заставила себя ждать. Она втекла в первую же брешь и больше уже не оставляла его...
* * *
Был конец лета, и осенняя прохлада уже давала о себе знать. Ветер трепал травы ласковыми, но сильными руками. Чувствовалось, что он любит это поле, но любит, как непослушного ребенка, постоянно напоминая, кто здесь хозяин.
Он шел в сторону горизонта, и было похоже, что он и впрямь намерен дойти до него и только там отдохнуть. Он шел, раздвигая ногами высокую траву, вдыхая запах, который ветер собирал со всей округи и оставлял вокруг него облаком свободы и беспечности. Многие, раз почувствовав этот запах, никогда уже не моги забыть то чувство, которым он наполнял душу, забираясь в легкие водопадами щемящей свежести.
Облака, проплывая, казалось, совсем рядом, бросали легкую тень на множество цветов, так похожих друг на друга, но совершенно разных. Одни из них прятались в траве желтыми и голубыми островками и маленькими глазками подглядывали оттуда за незнакомцем, который пришел из другого, мертвого мира. Другие, напротив, устремляли гордые фиолетово-красные стрелы навстречу небу, ветру, жизни. Они вовсе не обращали внимания на человека, который невесть как забрел в эту глухую, нехоженую страну.
Он поднялся на высокий холм и сел на мягкую сырую траву, давая покой уставшим, но счастливым ногам. Солнце потихоньку клонилось к западу, постепенно меняя цвет со слепяще-желтого на устало-красный. Он смотрел на него, не отрываясь, не щуря глаза. Он был счастлив, он сам был сейчас и полем, и ветром, и этим солнцем, которому тоже пора было отдохнуть. Он забыл обо всем, он знал лишь, что здесь, сейчас ничего дурного произойти не может. Он решил заночевать прямо на холме.
Солнце уже наполовину скрылось за краем земли, а он все сидел и смотрел на него, слившись со всей окружающей его величественной красотой в единое целое. Он не замечал роковых изменений, происходящих вокруг.
Вместе с сумерками, наполняющими пространство, этот первобытный, неведомый ему ранее мир сужался, вливаясь в исполинскую раму, которая постепенно становилась все меньше и меньше.
И вот солнце, наконец, исчезло за горизонтом, и он очнулся. Он сидел перед мутно-серым экраном телевизора в комнате, состоящей из сплошных стен. Здесь было тесно из-за множества людей, сидящих, как и он, и, как будто, ждущих начала сеанса в кинозале. Но он понимал, что сеанса не будет. Там, за прозрачной стеной из толстого стекла, плескалась такая знакомая и такая ненавистная спутница его существования — непереносимая муторная боль.
Удар был настолько неожиданным и ошеломляющим, что он остолбенел. Возвращение постоянного ужаса, разбившего вдребезги эфемерную пелену счастья, которой он позволил охватить себя, подавило всю его волю.
Он смирно сидел не в силах пошевелиться и ждал продолжения этого спектакля, в котором он был какой-то нелепой декорацией.
Но вот кто-то поднялся с места и подошел вплотную к мерцающему телевизору. В неверном свете серого экрана он узнал этого человека. Сердце его защемило, а тот, сделав еще один шаг, беззвучно исчез в непрозрачном тумане по ту сторону стекла, где хозяйкой была она. Прошел еще один и тоже ступил за черту, как бы принося себя в жертву.
Люди исчезали по одному все так же беззвучно и неуклонно. Он знал их всех. У них он научился всему, что знал и умел сейчас, с ними он проводил лучшее время своей жизни, им он был обязан всем, что имел.
Он смотрел, как они пропадают в пелене, встречи с которой он не пожелал бы даже худшему своему врагу. Но он знал, что они не нужны ей. Она ждала только его, она надеялась, что он захочет спасти их и нырнет в мир, похожий на смерть, но хуже смерти. Он знал, но не мог двинуться с места. Страх сковал его члены, заморозил его, превратил в ледяную статую, оставив на свободе только зрение, и он смотрел.
Пожирая тела и души его лучших друзей, людей, которых он любил, боль росла, и ей уже становилось тесно за стеклянной загородкой, прочной только на вид. И вот последний человек подошел к экрану.
Он понял, если она сожрет и его, то вырвется, выльется сквозь осколки в эту комнату, из которой не было выхода. Он не мог даже думать, что случится тогда.
Стряхнув с себя оцепенение, он рванулся вперед, поскользнулся, упал, но дотянулся до выключателя, как раз когда последняя жертва его страха исчезла, перейдя границу. С тихим щелчком экран погас. Он отрезал им последний путь к отступлению, обрек их на вечное страдание, по сравнению с которым ад был не более, чем шлепки матери за мелкие проступки.
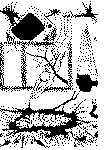 Он не услышал, а скорее почувствовал вопль отчаяния, боли, разочарования, крушения всех надежд, который настиг его вместе с последней искоркой неживого света, которой мигнул потухший экран. Этот крик десятков людей разорвал его изнутри, швырнул ошметки его сознания в стены, которые рухнули сразу же и перенеслись в небытие, из которого недавно были вызваны недобрыми, коварными силами.
Он не услышал, а скорее почувствовал вопль отчаяния, боли, разочарования, крушения всех надежд, который настиг его вместе с последней искоркой неживого света, которой мигнул потухший экран. Этот крик десятков людей разорвал его изнутри, швырнул ошметки его сознания в стены, которые рухнули сразу же и перенеслись в небытие, из которого недавно были вызваны недобрыми, коварными силами.
Конечно же, она ждала его здесь, и он затонул в ней по частям, все еще содрогаясь от всего случившегося и в ужасе перед неизбежным.
* * *
Камни были повсюду — мелкие и крупные, они покрывали собой скальный гранит неровным слоем, сильно затрудняя передвижение. Их острые края протыкали подошвы его ботинок, царапая ноги. Они проминались при каждом шаге и отлетали назад, шурша и стуча, как будто смеялись над одиноким человеком, бредущим по ним неизвестно куда и неизвестно зачем.
Он очень устал, но все равно шел вперед, потеряв счет времени. Это было неудивительно, так как здесь не было ни дня, ни ночи, были только бесконечные однообразные неизменные сумерки, и была бесплодная каменная пустыня. Он тупо смотрел под ноги, на камни, которые уползали назад под его ногами все медленнее и медленнее, по мере того, как он устало замедлял шаг.
Он ни о чем не думал, у него не осталось на это сил. Он просто уходил все дальше и дальше, потому что знал, что должен идти.
Он не знал, куда он идет, но это было не важно, потому что все направления здесь были абсолютно одинаковы и равнозначны. Пустыня была совершенно плоской, но у него было впечатление, что он постоянно поднимается в гору. Идти с каждым шагом становилось все сложнее и сложнее.
И вот силы сосем оставили его, и он остановился. С трудом подняв голову, он понял, что это — конец пути. Он стоял на самом краю обрыва неимоверной высоты. Внизу плескалась бескрайним океаном неразлучная его подруга, от которой он так безуспешно пытался скрыться все это время. На этот раз она сама не могла его достать. Она протягивала ему волны, зовя окунуться в родной кошмар, но они разбивались об уступы скалы, с которой он разглядывал ее.
Было незачем опять бежать, да он и не мог этого сделать. Ноги не слушались больше и хотели лишь одного — покоя. А в принципе, ему некуда было податься отсюда. Он понимал, что куда бы он ни пошел, он выйдет к точно такому же обрыву, только это будет несколько позже и чуть-чуть оттянет неизбежную развязку.
Он, конечно, мог сидеть здесь вечно, постоянно боясь неожиданного прилива или обвала, который унес бы его вниз, в мутную пучину боли. Но он уже слишком устал от страха. Страх умер в нем раз и навсегда, оставив после себя пустоту, которую пока нечем было заполнить.
И тут перед глазами его стали проноситься давно забытые картины из других, неудавшихся жизней, которые он давно стер из памяти, чтобы они не мешали ему более продуктивно предаваться отчаянию и ужасу перед будущим.
...Люди мечутся в пенных волнах озера, захлебываясь, крича, вырываясь из объятий ожившей воды, а их захлестывает новыми и новыми каскадами брызг и пены. Матери видят, как умирают их дети, а через минуту погибают сами, унося с собой на дно самое неизбывное горе в мире...
...Она смотрит, как за ним захлопывается дверь, и глаза ее полны такой обидой и горечью, как будто ей дали пощечину...
...Люди нескончаемой очередью уходят сквозь экран туда, куда должен идти он. Они ни словом, ни взглядом не укоряют его ни в чем. Они еще верят, что он придет и заменит их на этом посту. Они еще не знают, что он просто плюнет им в душу и предаст их всех до одного...
...Волны...
...Глаза...
...Экран...
Глаза, волны, волны, экран, глаза...
Нет! Все кончено. Он больше так не мог. Уже поздно что-нибудь исправлять, но за ошибки, тем более, роковые, надо платить той же монетой. Он посмотрел вниз. Боль ждала его, тянулась к нему, но не доставала. Он закрыл глаза. Он нашел, чем заполнить место, освобожденное страхом. Не открывая глаз, он качнулся вниз и полетел.
Был всплеск, перехватило дыхание, заложило уши. Он ждал обычной нудной всепоглощающей боли, но ее не было. Была свежесть обычной морской воды и очень не хватало воздуха. Он понял, что не успеет вынырнуть. Он победил боль, но слишком поздно. Цена оказалась больше, чем он думал. Он открыл глаза и увидел вверху яркий свет...
ЭПИЛОГ
...Свет падал из окна прямо ему в глаза. Окно было открыто, и из него в комнату врывался прохладный свежий воздух.
Он вскочил с кровати и высунулся по пояс на улицу. Пели птицы, приветствуя его пробуждение.
Боли не было. Он знал, что ее больше никогда не будет.